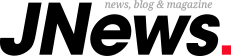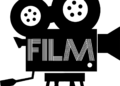«У меня давно этого не было!» — сказал 80-летний миллионер новой сиделке. А ночью приказал сделать ЭТО.
Никто не хотел устраиваться к Павлу Зорину — старику-миллионеру, которого давно прозвали «бронзовым». Он был крепким, грубым и внешне почти не изменился с шестидесяти. Только ходил теперь медленно, с палочкой, и в доме стояла тревожная тишина, как перед бурей.
Он сменил более двадцати сиделок. Одни сбегали в слезах, другие — в истерике. «Стерв боюсь больше, чем смерти», — говорил он медсёстрам и смеялся своим скрипучим смехом.
Анна пришла к нему не от хорошей жизни. После развода и смерти сына она выживала: сначала уборки, потом больница, потом — эта вакансия. Платили хорошо. Но каждый шаг — будто по минному полю. Зорин придирался ко всему: «Зачем вы так хлопаете дверью?», «Каша холодная!», «Вы нюхаете мои лекарства?»
Анна не оправдывалась. Просто делала своё. Тихо, просто, по-человечески. Варила бульоны, протирала полы, вечером читала ему Чехова. Иногда он, будто забывшись, слушал, положив голову на спинку кресла, и тогда в его взгляде появлялось что-то человеческое.
Прошла неделя. Потом вторая. Он стал меньше ругаться. Однажды, поздним вечером, когда за окном во всю завывал ветер, он сказал:
— У меня давно этого не было.
— Чего именно? — спросила Анна, отрываясь от книги.
— Тишины, — сказал он. — Без допросов. Без жалости. Без страха. Просто присутствия.
Он посмотрел на неё долгим взглядом и добавил:
— Останься у меня сегодня. В комнате. Не у себя, а здесь. Просто сядь рядом. Я не усну. Или проснусь от криков. Снились такие вещи… Ты не хочешь знать.
Анна замялась, но потом подошла, села на стул и молча взяла его за руку. Он вздрогнул, как от удара тока, а затем выдохнул и закрыл глаза. Она сидела с ним до самой зари.
С того дня Зорин будто оттаял. Он всё ещё придирался, но больше по привычке. Просил читать стихи. Слушал Баха. Однажды показал ей старую шкатулку, в которой были письма — любовные, военные, тронутые временем и пеплом. Молчал, пока она читала.
— Почему вы один? — как-то спросила Анна.
— Потому что сам всех прогнал. Деньги сделали меня крепким, но не живым. А ты… Ты вошла в этот дом без страха. Просто с супом.
Через месяц он слёг. Врачи развели руками: возраст, сердце, нервы. Анна была рядом. Меняла компрессы, держала его за руку. Он говорил всё меньше, но взгляд был ясный.
— Ты — единственная, кто не боялся моей бронзы, — сказал он за день до смерти. — Только по-настоящему сильные не боятся чужой боли.
Он умер тихо, на рассвете. Анна закрыла ему глаза и долго сидела в тишине.
Через месяц её вызвали к нотариусу.
Завещание было коротким:
«Я оставляю Анне весь мой дом, библиотеку и старую скрипку на чердаке. Потому что однажды она просто взяла меня за руку.
P.S. У меня давно этого не было.»
«У меня давно этого не было!» — сказал 80-летний миллионер новой сиделке. А ночью приказал сделать ЭТО.
Никто не хотел устраиваться к Павлу Зорину — старику-миллионеру, которого давно прозвали «бронзовым». Он был крепким, грубым и внешне почти не изменился с шестидесяти. Только ходил теперь медленно, с палочкой, и в доме стояла тревожная тишина, как перед бурей.
Он сменил более двадцати сиделок. Одни сбегали в слезах, другие — в истерике. «Стерв боюсь больше, чем смерти», — говорил он медсёстрам и смеялся своим скрипучим смехом.
Анна пришла к нему не от хорошей жизни. После развода и смерти сына она выживала: сначала уборки, потом больница, потом — эта вакансия. Платили хорошо. Но каждый шаг — будто по минному полю. Зорин придирался ко всему: «Зачем вы так хлопаете дверью?», «Каша холодная!», «Вы нюхаете мои лекарства?»
Анна не оправдывалась. Просто делала своё. Тихо, просто, по-человечески. Варила бульоны, протирала полы, вечером читала ему Чехова. Иногда он, будто забывшись, слушал, положив голову на спинку кресла, и тогда в его взгляде появлялось что-то человеческое.
Прошла неделя. Потом вторая. Он стал меньше ругаться. Однажды, поздним вечером, когда за окном во всю завывал ветер, он сказал:
— У меня давно этого не было.
— Чего именно? — спросила Анна, отрываясь от книги.
— Тишины, — сказал он. — Без допросов. Без жалости. Без страха. Просто присутствия.
Он посмотрел на неё долгим взглядом и добавил:
— Останься у меня сегодня. В комнате. Не у себя, а здесь. Просто сядь рядом. Я не усну. Или проснусь от криков. Снились такие вещи… Ты не хочешь знать.
Анна замялась, но потом подошла, села на стул и молча взяла его за руку. Он вздрогнул, как от удара тока, а затем выдохнул и закрыл глаза. Она сидела с ним до самой зари.
С того дня Зорин будто оттаял. Он всё ещё придирался, но больше по привычке. Просил читать стихи. Слушал Баха. Однажды показал ей старую шкатулку, в которой были письма — любовные, военные, тронутые временем и пеплом. Молчал, пока она читала.
— Почему вы один? — как-то спросила Анна.
— Потому что сам всех прогнал. Деньги сделали меня крепким, но не живым. А ты… Ты вошла в этот дом без страха. Просто с супом.
Через месяц он слёг. Врачи развели руками: возраст, сердце, нервы. Анна была рядом. Меняла компрессы, держала его за руку. Он говорил всё меньше, но взгляд был ясный.
— Ты — единственная, кто не боялся моей бронзы, — сказал он за день до смерти. — Только по-настоящему сильные не боятся чужой боли.
Он умер тихо, на рассвете. Анна закрыла ему глаза и долго сидела в тишине.
Через месяц её вызвали к нотариусу.
Завещание было коротким:
«Я оставляю Анне весь мой дом, библиотеку и старую скрипку на чердаке. Потому что однажды она просто взяла меня за руку.
P.S. У меня давно этого не было.»
Дом был огромным, с высокими потолками, витражными окнами и множеством комнат, в которых пыль танцевала в лучах солнца. Первые недели Анна жила словно во сне. Она не знала, что делать с этим наследством. Юристы, соседи, журналисты — все интересовались, кто она такая и почему именно ей оставлено всё. Анна никому не отвечала. Она запирала двери, поднималась на чердак, где стояла старая скрипка, и долго сидела рядом, глядя в окно.
Однажды она всё же сняла футляр. Скрипка была пыльной, но целой. Анна не умела играть. Но она позвонила в музыкальную школу. Потом — в библиотеку. Потом — в приют. И спустя три месяца дом Зорина наполнился голосами детей, книгами, музыкой и запахом пирогов.
Она отдала одну комнату под мастерскую. Другую — под читалку. В третей сидела пожилая женщина, научившаяся играть на той самой скрипке. Дом жил. И Анна — вместе с ним.
Павел Зорин не оставил ей инструкции. Только доверие. А она — впервые за много лет — не подвела.
Иногда, проходя мимо старого кресла, она ощущала лёгкий сквозняк. Будто кто-то по-прежнему сидел там, с тростью в руке. И улыбался.
— У меня давно этого не было, — тихо говорила она в пустоту.
И дом отзывался — тишиной. Спокойной, тёплой. Как та первая ночь.